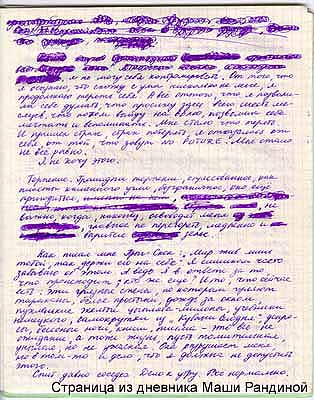
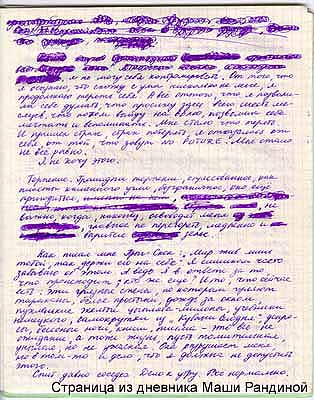
(конфискован во время обыска 14.04.99)
“Итак, если я дам показания у кого взяла пакет (которые вымучивают у меня уже три месяца) то меня выпустят под залог. Если нет- то сидеть мне еще как мин. 2 месяца, а скорее всего гораздо больше. И только сейчас, когда встала реальная возможность выйти отсюда, я поняла, что она для меня значит: внутри меня все кричит и молит “Да! Любой ценой! На волю!” кажется, я сижу здесь уже давным-давно ( кончилась уже 2-я ручка) . Без малого - бесконечно.
Конечно же я согласна. Моё молчание уже никому не помогает, а только вредит мне. Все доказано и показано без меня. И все же мне приходиться убеждать себя в этом, а на душе муторно.
Я думала. Что это моя безответственность( раньше я называла её милым словом “раздолбайство” достигнет пределов возможного. Но нет, оказывается и Л. наивна и неосторожна. О чем она думала, когда действовала? Чтобы совершить что-то незаконное и остаться безнаказанным в наше время нужно быть профессионалом( ведь на друг. стороне выступают обычно подготовленные профессионалы) , а не профаны и дилетанты, как каждый из нас. Это не конец прошлого века , у “бомбистов”-энтузиастов нет никаких шансов.
1. Терроризм в России - уже стихия, бедствие, отношение к нему у народа однозначно отрицательное. Люди не очень-то разбираются - что взрывает кого.
2. Ich glaube ,das ist nich ganz rechts.
( Перевод: Я полагаю , что это не вполне верно)
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу...
Александр ГАЛИЧ
Век вывихнул сустав,
Да проклят год,
Когда пришел я вправить вывих тот...
Уильям ШЕКСПИР
На асфальте спит собака,
Грязный пес неясной масти,
Остро выступили ребра
И сиреневые мухи
Жадно кружат в жарком полдне
Над разорванною лапой -
Знаке драки и бездомья...
Эдуард ТОПОЛЬ
Дни сплелись воедино,
И прошлое бьется и манит.
И наводит на белые простыни свой аппарат
Память - сентиментальный, забывшийся киномеханик
Потерявший себя в лабиринте из встреч и утрат...
Неизвестный автор
Нет никакого смысла жалеть о прошлом, не забывай об этом. А уж тем более - упрекать себя в чем-либо что могло быть иначе. Это уже прожито. Упрекать себя нужно или во всем, или ни в чем.
«Когда я выйду - все будет иначе», - говорю я себе, как тысячи других заключенных, как миллионы тяжело больных людей, надеющихся выздороветь. Как всякий человек, который на слишком долгий срок остался наедине с путаницей прошлого. Он мечтает, чтобы не сойти с ума.
Я позволю себе мечту, одну единственную, которая не обманет. Когда я выйду отсюда, весной, не знаю какого года, я припаду к голой земле, чтобы почувствовать запах еще не рожденных трав. (..........)
Я представляю город, что за окном: на улицах продают гиацинты, в театре идет Селинджер, лица людей озарены приближением весны. Но возможно, это только мое воображение и там, за окном, только грязь, очереди за хлебом, усталые авитаминозные лица. Возможно, там, за окном, и вообще ничего нет.
Что я знаю доподлинно - это то, что вижу. Есть я и моя соседка - два молчащих, утомленных ожиданием существа, каждая в своем углу, на одеяле цвета втоптанного в грязь неба. Есть стены, рыбий глаз постового в глазке. Есть зарешеченный квадратик с серым дождем. Все это, как туманом, окутано сосущей пустотой. Все молчит. Все бессмысленно и безразлично.(...........) Есть я, есть стены, все остальное я, наверное, выдумала.
«Ничего не бойся», - говорила я ему. А он сидел, сломленный страхом и боялся посмотреть мне в глаза. Как толстая кукла из папье-маше. Как куча дерьма. А я почему-то смеялась. Говорила, что просто - плохая погода. Противно было смотреть на его опущенную голову.
Я часто думаю, каким же был Иуда? От версий Булгакова, Андреева или Стругацких шибает липой. Слишком они книжные.
Иуда был учеником Христа, а это уже определенный тип. Дух Иуды молод и не крепок, он алчет Истины и преклоняется пред Авторитетом. Так же как Петр и другие ученики. Вина раскаяние и искупление Петра по сути схожи с иудиными. Только не так страшны и велики.
Почему он предал? Я думаю, Иуда просто испугался, дрогнул, когда настал час испытания, которого он не ожидал. Вероятно, Иуду схватили и пригрозили смертью, поставили перед выбором: смерь или предательство. С ним работали хорошие психологи - искусные садисты. И Иуда дрогнул. Он был молод умирать в одиночестве, безызвестности, ничего после себя не оставив, зная, что горевать о нм никто не станет, он не хотел. Любому бы стало страшно. «Я - или он... - думал Иуда, - но почему, за что я должен умирать сейчас? Я не нарушал законы, не смущал народ. Только хотел приобщиться к Его благодати. Это несправедливо: я - человек, смертен, хочу жить. Он - Бог, ему не страшно...»
Иуда согласился помочь властям. И дни, часы поплыли, как в тумане. На сердце легла тяжесть, мысли притупились. Он с трудом заставлял себя ходить, разговаривать, жить, как обычно. Ему казалось - скорей бы все кончилось, и он забудет все, как страшный сон... В последний вечер он сидел среди учеников, в поту, сердце, как набат, и думал только: «Скорей бы все кончилось... Я уйду куда-нибудь, буду спокойно жить и все забуду, как страшный сон... Сил никаких нет смотреть Ему в глаза...»
Наконец, тягостная ночь минула, - он предал Учителя, в руки первосвященников. Но боль только обострялась по мере того, как проходил страх за жизнь. На площади, где объявили имена казнимых преступников, на улице, ведущей к Голгофе, Иуда тенью скользил в безумствующей толпе. Туман в голове рассеялся, и он с ужасом осознал, что совершил: предал Единого Бога. Стал символом предательства для времен и народов. Сатана помутил его разум, как и разум тех, кто кричал вокруг него... И раскаяние стало самым сильным из чувств, испытанных им в жизни. Это не возможно было вынести. Иуда убил себя.
Нет состояния более ужасного, чем раскаяние Иуды.
Одиночество разъело тело жизни, как кислота. Остался только остов, по которому можно изучать построение существования homo sapiens. Это скелет, скрюченный в позе, в которой первобытные люди хоронили своих соплеменников. Он устремлен в темноту, в глубь, в «до» и «после». Это нерожденный старец - он прячется от будущего. Это избитый ногами человек - он защищается он настоящего. Малоприятная правда анатомии. Остаток маленькой жизни, похороненной во времени.
Противно: пачкаю бумагу одной тоской. К тому же во мне ее от этого меньше не становится. В моем положении отчаяние неизбежно. Но наступит ли другое время, желание пролить на бумагу радость? Счастливые не пишут и почти не думают, во всяком случае, - словами.
Мы с соседкой пожевали кислого хлеба. Я - с солью. Она - доела последние кусочки сала. Запили теплым подслащенным чаем. Закурили туго забитую «Приму», отломив кусочки от бракованной макаронины.
- Вот и воскресенье прошло... - промурчала соседка.
Хотя оно не прошло и на половину: только ужин, впереди еще вечер и полночи попыток забыться. Но она считает концом суток тот час, за которым уже точно ничего не произойдет.
А что может произойти? Все события - баня в четверг, следователь раз в две-три недели, редкие передачки: на двоих - три за два месяца... Вот и все события. Да, еще газеты три раза в неделю. Новый Год, Рождество и день рождения соседки событиями не стали: они протекли в той же вязко-тягучей пустоте.
Я сегодня не спала всю ночь, разговаривала с Равиком из «Триумфальной арки», вспоминала Прыг-Скока. А сутки все тянутся и голова ясная, бессонна. За окном - сумерки: серое небо наливается темной синевой, раствор его становится все насыщенней. На ржавых ресничках блестят дождевые капли. Прохладно. До конца зимы осталась неделя.
В «Известиях»: премию А. Григорьева получил Ю. Давыдов за исторический роман «Бестселлер», опубликованный в «Знамени». Выйду - надо будет почитать.
Соседка моя лежит на животе, спрятав руки под себя, отвернувшись лицом к заделанной в стену батарее, и вздыхает. Ее родные - сестра, дочка - не приезжают к ней уже полтора месяца. Она ждала их еще к своему дню рождения. Я представляю, какие мысли ворочаются в ее голове, - изо дня в день ждать. Словно шорох тараканьих лапок. Словно захватанное руками мутное стекло. Раскисшая в невыплаканных слезах.
Что она за человек? Читая газеты, она материт власть имущих за то, что они «нахапали» себе, «пооткрывали счета в швейцарских банках». Это говорит зависть человека, не имеющего возможности «нахапать» тоже. Она сидит уже третий раз - воровство, торговля наркотиками - и яростно негодует, если прочитает в газете о насильниках, убийцах, возмущается, что им мало дают. Себя же она если и осуждает, то только за то, что попалась, за жадную тупость. По ночам ей снится, что она ворует и ест вкусную еду.
Нам не о чем с ней поговорить. Я стараюсь быть к ней снисходительной. Хотя чувствую, что где-то в уголке сознания ждет своего часа месть за то унижение, когда я просила у нее спички, а она только давала мне прикурить от ее сигареты. Часами я лежала, до озверения мучимая жаждой курить, и ждала, пока она проснется и сама соизволит закурить. Каждый день пыталась перестать курить, но каждый раз, когда она закуривала, проклиная себя, я тянулась к огоньку... Месть и некое чувство превосходства, что я не поступила с ней так же, когда ко мне стала приходить тетя и у меня появились сигареты, еда, конверты, ждут чего-то, хотя и пытаюсь их прогнать. Нам не о чем с ней разговаривать серьезно, и молчим мы каждая о своем. Поэтому мы шутим. Довольно однообразно и пусто. Обсуждаем мои выпадающие волосы, ее страсть к селедке, тараканов, Крокодила, рыжего постового, который подолгу стоит у глазка и раздражает нас своим взглядом. А что еще у нас общего?
* * *
Сегодня у меня странные мысли, меня охватила жадность к жизни. Возможно, все дело в Лилиан, в ее жадности, в упоенности одним ликом. Даже зная о близкой смерти, можно смазать краски настоящего, можно прятаться от неминуемого, пытаться отодвинуть его. Но нет - Лилиан именно потому так бешено гонится за впечатлениями, так остро переживает счастье, что помнит о смерти, примешивает в каждое блюдо соль расплаты. Это основа, которая не дает вполне забыться и раствориться, по настоящему полюбить кого-то, потерять себя, которая обостряет чувствительность.
Почти все дни, что я здесь, в пустоте, представляла, что потом смогу испытывать радость - от самых простых вещей, наслаждение - свежим воздухом, счастье - видеть людей и деревья, удовольствие - от теплой воды. Казалось, я научилась ценить то, что кажется таким обыденным и бесцветным. Но сейчас мне кажется, что чтобы я ни делала на воле, мне этого будет мало. Мало цветов, музыки, праздников, вина, книг, друзей.
Лилиан была без пяти минут мертва, я же буду - уже пять минут назад мертвая. Воскреснуть и вернуться в жизнь, постоянно помнить о пережитой смерти - хватит ли всех радостей земли, чтобы испытать такое счастье?
Жан Жене: «Порой счастье невозможно, потому что ты его уже промечтал...»
«Уже сегодня сэрэда...» - на мотив «Воплей». Так попеваю я каждую среду. «Здравствуй, черный понедельник!» - это для первого дня недели. И - «день прошел, а ты все жив» - на каждый вечер, иногда этот мотив заменяется менее обреченным, аукцыоновским: «Еще не поздно - день уже прожит...» Каждая из этих незамысловатых песенок имеет свой вкус и вызывает воспоминания из того или иного периода моей рваной и путаной жизни.
За окном дождь, который день - дождь или ветер, хотя прошла уже Масленица и пора прийти весне. «Я никогда не поверю в перемену погоды...» - вполне мое настроение. Похоже, что ни происходит - все дерьмо. За закрытым глазком гудит пылесос, - по средам у них генеральная уборка. Соседка спит, я собираюсь с силами, начать читать одну из оставшихся книг - нудный исторический роман про Тимур-Лэнга или советскую фантастику о пещерных людях. Ремарк кончился, настало похмелье.
Как это ни прискорбно, - жду тетю. А точнее - учебники, сигареты, еду. Если она не придет на этой неделе, невольно разделю психоз соседки. Осознание не приносит спасения. Мелко и достойно презрения, но не справляюсь... Вот такие пироги.
Как бы все было просто, если бы человек мог управлять своими мыслями с помощью рычажков в мозгу. Ставишь те, что тебе неприятны, в положение «выкл.» И ничего не колет, не раздражает, не мешает. Мысли текут плавные и легкие.
Соседка проснулась и, еще сопя спросонья, кинулась к тумбочке. Глыкая, выпила воды, отломила от макаронины кусочек «Примы». Толстый, лохматый человечек с кислым выражением на опухшем со сна лице. Я, наверное, выгляжу не лучше.
Вижу себя раз в неделю. Протираю запотевшее зеркало в бане и тут же возникает желание отвернуться. Лицо бледное, покрытое язвочками и коростами - раздираю прыщи, - брови срослись, глаза, как у побитой собаки, неопрятные редеющие волосы. Хотя выгляжу я младше. Да я и всегда выглядела младше. Похожа на девочку из гетто. У нее трудное детство: нищие родители, куча комплексов, авитаминоз, меланхолия.
Вечером событием стала кукурузная каша. Два месяца нас кормили пшеничной - обычно на завтрак недоваренной, коричневой - и сорговой на ужин - вязкий белый клейстер без вкуса и запаха. (Видимо, утром повар слишком поздно добирался до тюремной кухни, зато вечером отдавал любимому делу лишних часа два.) Иногда (не иначе, штатный повар недужил) давали пшенную, которая казалась лакомством по сравнению с двумя предыдущими. Сорговую кашу приходится целиком параше скармливать.
Даже миска кукурузы может стать праздником.
На обложке боевика сказано: «Победи или умрешь!» Такой бред. Впрочем, показательный для нашего времени. Люди душат тех, кто слабее, карабкаются наверх, оттаптывая руки и головы менее проворных, и называют это победой. Люди покупают машины, строят особняки, завладевают властью, жрут и пьют всласть и называют это жизнью. Счастье измеряется властью и деньгами. Но неужели они и вправду думают избежать неизбежного? Неужели, победив враждебную группировку, думают, что победили смерть? Побеждай, не побеждай - умрешь.
Впрочем, что же я так распаляюсь и негодую, проговаривая банальные обличения?.. Того, кто забывает о смерти ждет расплата. Он еще не раз вспомнит слова, так же символизирующие мышление нашей эпохи: «За все надо платить».
Ницше: «Люди забыли о первоначальной цели богатства - безмятежности». Как-то так.
Ремарковский эмигрант:
«Из булочной пахло теплым хлебом и казалось, вся прелесть мира слилась в этом запахе. /.../ Никогда мир не кажется таким прекрасным, как в то мгновение, когда вы прощаетесь с ним, когда вас лишают свободы. Если бы можно было ощущать мир таким всегда! Но на это, видно, у нас не хватает времени. И покоя.»
Филистимляне. Исихасты. Джихад. Ваххабиты. Зиккурат. Навуходоносор. Флибустьеры. Фермопилы.
Чтобы заснуть я прилагаю немалые усилия. И обычно, первая, а то и вторая попытка оказываются неудачными. Я придумала множество уловок, чтобы приманить сон. Иногда я расслабляю тело: постепенно, сначала перестаешь чувствовать ноги, потом поясницу, спину грудь, только живот, как тихая волна, колышется, потом - плечи, руки, шея тоже исчезают, расслабляется лицо, и вся я остаюсь в темноте внутри головы, в глубинном укрытии. Когда болит голова это не помогает: кровь стучит в ушах, пульс бьется о подушку, дыхание не успокаивается.
Иногда я вызываю перед глазами какие-нибудь картины: кружащийся космос, бегущую воду, полет птицы. Однажды я чувствовала себя в этой картинке: я бежала среди зеленых кустов, на холм, на котором росла молодые березы, а над ним синело горячее летнее небо. Я чувствовала листья в руках, бежать было легко, на холме я упала лицом вниз, ощущая колкую травку и нюхала черную сырую землю.
Мне все больше и больше стал нравиться момент засыпания, когда на грани забытья в мозгу вспыхивают фантастические образы и абсурдные мысли. Помню этот момент вчерашней ночи. Я слушала лай собак за окном и вдруг он превратился в перебранку:
- Нет!
- Ты, ты!
- Я?!
- Да!
- Хам, хам!
Потом где-то зажурчала вода. Казалось, она обтекает мою голову и бормочет шепеляво: «Спи, спи, спишь...» И я заснула.
Стихи - маленькие лазейки от неотступного безумия.
Пришел четверг - лучший день недели. И принес очередной дождичек. Впрочем, не только его. Сегодня, наверное, над городом столкнулись циклон с антициклоном: ночью шел мокрый снег и комьями плюхался с крыш, утром выглянуло солнце и зазвенела капель, днем был дождь, а к вечеру поднялся ветер, но вскоре утих.
Нас сводили в баню. Сегодня, как ни странно, зеркало меня не испугало: мне нравится та, что смотрела из него. Я похудела.
Еще - нам поменяли книжки. Мне достались еще три Ремарка. Впрочем, две из них о концлагерях, а это не самое подходящее чтиво в тюрьме. А может наоборот? Соседка моя, увидев эти «нежные и суровые» повести, подняла крик:
- Опять этот! Принесите что-нибудь другое!
- Вам не нравится Ремарк?
- У него одно и то же: только пьют и умирают, от рака или туберкулеза.
- Что же тут удивительного? Или вы надеетесь жить вечно?
Ей принесли несколько «сельских романов» советских времен. Больше ничего не нашли: мы прочитали всю тюремную библиотеку.
* * *
Иеремиада. Вивисектор. Ксантиппа. Гематома. Намус. Савонарола. Эвтаназия. Холокост. Гарда.
«Бытие без жажды становления» (уаби) - вот последняя и единственная дверца, в которую я еще могу ткнуться, но ключи от нее безвозвратно утеряны и мастеров, способных их выковать, в наше время нет.
Вчера вечером нас перевели из первой камеры в четвертую. Она уже, грязнее, на батарее нельзя посушить белье. Зато здесь теплее и окна не прикрывают «реснички». Виден двор с нагромождением подсобных построек и гаражей, здание управления, вдали - деревья и обычные дома.
Я стала мало спать, но целые дни сонная. Кружится голова и темнеет в глазах, стоит встать. Мучаюсь запорами, почти не ем.
Пытаюсь написать письмо Ксюхе, но никак не получается: то жалоба, то обвинение кому-то или чему-то, то бред. «Чтобы понять проблему, не нужно пытаться ее решить», - говорит Кришнамурти. Не могу найти искреннего тона. Все представляю глазами следователя, которому предстоит прочитать это письмо до Ксюхи или кого-либо, кому она будет его показывать. Вот лезет на бумагу разная мерзость. То саможаление, то хвастовство: какая я несчастная! Какая исключительная! Что-то очень мешает мне, шкрябает душу.
Ничейная земля. Разливанное море. Неопалимая купина. Солнечный ветер.
Боже! Сколько лет я иду,
Но не сделал и шаг...
Боже! Сколько лет я ищу
То, что вечно со мной...
Сколько лет я жую вместо хлебы
Сырую любовь!
Сколько жизней в висок мне плюет вороненым стволом
Долгожданная даль!
Между мной и прошлым пролегла полоса тюрьмы. Вымершее время, разделяющее молодость и смирение.
От недоедания я чувствую себя, как новорожденный котенок. Стоит закрыть глаза, и меня качает на волнах. Но в желудке голода нет.
Отзвонили вечерние колокола. «А потому не спрашивай, по ком звонит колокол, потому что он звонит и по тебе...» Этот звон напоминает мне наш с Ромкой сквот в Праге. По воскресеньям, в десять часов утра, я просыпалась от голосов всех пражских колоколов. Сквот находился на горе, над городом, и со всех сторон летел туда печальный звон. Было лето, меня ласкало солнышко в комнате без окон и дверей.
Ромка тоже просыпался, мы лежали и смотрели в потолок, слушали колокола. Приходили миссионеры - немолодая худая женщине в платье-тунике и молчаливый бородатый парень. Он и Ромка владели только родными языками, а мы с женщиной разговаривали по-английски. Непомерно радуясь любви к Богу, отчего лицо ее покрывалось лучиками морщинок, женщина рассказывала мне свою жизнь, звала в церковь. Мне было лень что-то объяснять ей, тем более - спорить, было лень даже раздумывать над ее речами. Миссионеры приносили нам булочки и рогалики из черной муки, посыпанные тмином и сезамом, которые так любил Ромка. Он поджаривал их на костре и, конечно же, делал ароматный чай.
Прошлой весной с Ромкой, Вичкой, Ватсоном мы целыми днями пили чай - с сакандалей, смородиной, с лимоном, с абрикосовым вареньем, с черным хлебом. Целыми днями слушали Мамонова, Умку, Rezidents, Koel. Ромка читал Кафку и «Москва - Петушки», Вичка - «Мифы южноафриканских индейцев», я - Картасара. И все читали Селинджера и «Роман с кокаином» Агеева-Набокова. Потерянные дети, просветленные безумцы.
«Сегодня - самый лучший день. Сегодня - битва с дураками...»
Вот и наступила весна, долгожданная. Заря потеснила ночь и колокола стали звонить в семь часов. Тоненько посвистывают пташки.
Половина минимального срока - половина тетради. Хотя исписала я ее за какие-то десять дней.
Здравствуй, светлый понедельник!
С утра я вытащила-таки соседку гулять. Мы вышли в крохотный дворик. Воздух показался мне необычайно душистым. Таким чувствуешь его, вылезая из пещеры. Он пьянил и, в то же время, бодрил, словно я проснулась от долгого сна. Я никак не могла находиться. Кругами топталась в десяти квадратных метрах дворика. Останавливалась, смотрела на яркое небо, кроваво-красную тюрьму и ходила опять.
Потом меня вызвал анархический эфэсбешник. Этот разговор, как и всякий с ними, меня расстроил, высосал из меня всю уверенность. Особенно противны были его размышления на счет «вы можете сделать карьеру», «каждый устраивает свою судьбу», «нормальному человеку свойственно себя выгораживать», «подумайте о будущем», «не думаете ли вы, что она просто удовлетворяла свои амбиции? ...не захотелось идти в аспирантуру ...имеет такое влияние на панков» - комья блевотины.
Сейчас я только мечтаю, чтоб меня отвели к доктору, и он выписал мне слабительное.
«Где ты, где ты, где ты -
Белая карета?
В стенах туалет человек кричит...
...Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит,
И тоска пройдет...»
Получила письмо от отца. Первый раз за эти три месяца плакала. Так сладко мне стало. Так легко.
Боже! Как же я просмотрела в четверг среди книг, что нам принесли Джона Апдайка?! Среди рассказов Горького, «сельских романов» и прочей херни. Первый раз я читала «Кентавра» лет в 14, и он врезался мне в память, хоть и не помнила я ни автора, ни названия книга. Зато неровный цокот копыт подстеленного человекоконя по мраморному полу в вестибюле моей школы я узнала сразу же, только открыв книгу.
Еще Апдайк напомнил мне Прагу: там я читала «Улисса» - в вагонах трамвайчиков, на скамейках в скверах, в баре общежития, но никогда на сквоте. «Улисс» к нему не подходил. Сравнение с Джойсом - самое банальное. Кого только с ним ни сравнивали!
Ах, это «чистое сознание», эта музыка ощущений и ассоциаций, вплетенная в миф, придающий бессмертие ничтожному!
«видят, что идет снег. Эта благосклонность небес всякий раз поражает заново. Благодаря ей мы оказываемся в облаках рядом с Юпитером Плювием. Что за толпа! Что за толпа крошечных снежинок валом валит на землю в желтом свете над входом! Атомы. Атомы, атомы без числа. Кажется, будто снег падает только там, где струится свет. Трамвай словно тащит за собой шлейф медленно оседающих светлячков. Какое красноречивое безмолвие царит в мире! Под огромным сиреневым куполом бушующего ночного неба город превращается в новый Вифлеем. За блестящими окнами плачет младенец-бог. Из ничего родилось все. Стекла, словно облепленные изнутри соломой из его яслей, заглушают крик. Мир не слышит и продолжает жить по-прежнему. Город с белыми крышами кажется скопищем заброшенных храмов; вдали они сливаются, сереют, тают. Фонари выстроились вдоль трамвайных путей, образуя сверкающую авансцену, на которой снег, сметаемый и раздуваемый легким ветерком, как актер, замирает и падает. Верхние воздушные потоки сдергивают снег, но он освобождается и, как пылкий влюбленный. Бросается вниз, в объятия земли; он то гуще, то реже, и кажется, будто огромные, теряющиеся в вышине ноги шагают по воздуху. Метель идет. Метель идет, но не уходит.»
Сегодня среда, день рождения Семки. Ко мне пришла тетя, принесла самоучитель по немецкому, майку «Dr. Cunabis», сигареты с фильтром. Завалила меня вкусной едой: сыр, масло, соленые капуста, помидоры, зеленый лук, чеснок, фрукты, мед, булочки, пряники, изюм, курага... Я смакую сами Имена Еды после долгой «диеты»: каша да хлеб с солью... Но все это ни сколько не помогает, впрочем, как еде может помочь? - не утешает, только бередит душу. На воле можно месяцами есть каши и хлеб с солью и радоваться жизни. Жизни - ее тысяче скрытых ощущений, воздуху, которым теперь не могу надышаться на прогулках. Уже он - вся жизнь.
Где же:
'...and happiness follow you,
as your shadow, unshakable'?
* * *